|
<...> Я не люблю ездить по паркам или национальным лесным заказникам, не люблю такие посещения только потому, что какой-то страны или даже континента я еще не видел. Я очень люблю поехать туда, где есть что-то, что меня особо интересует, это может быть маленький предмет, картина, дерево или приятель. Хоть бы мне была оплачена поездка первым классом и самая роскошная гостиница, я не хочу видеть Гонконг, Сидней, Бали или Буэнос-Айрес — а зачем? Для меня там нет ничего интересного. Если речь идет о глухарях31, то их в Спуше не было, но зато с момента возврата Ружаны, у нас было глухарей сколько душе угодно, потому что Яцек составил совершенный хозяйственный план звероводства во всей пуще. К счастью до 1939 года мы не должны были обращать внимания на окупаемость охоты. Если бы не война, по тому как развивались его планы можно было смело рассчитывать на 400 токующих петухов32 в 1943 году. В 1939 году, когда мы мотались на токах, Яцек оценивал их численность на основании собственных очень подробных исследований в четыреста крехтунов33 и 60 токующих птиц да и то только на территории которую мы посещали. Были еще удаленные от всех дорог или лесных просек места, к которым очень редко можно было добраться да и то только пешком, где видели и слышали глухарей. Правительство, хозяйничая над пущей перед нами, места лова не уничтожило, потому что мало занималось дикими убежищами34 и даже никто не знал о богатстве территории. Охота была наемной, но к счастью не местными охотничьими кружками, а людьми, приезжавшими, скажем, два раз в год, делавшими много шума, устраивавшими несколькодневную охоту во время которой кроме отстрела достаточно большого количества дичи не трогали ее и не пугали непрерывным посещением мест лова. Пуща была мало доступна и так удалена от местности, где могли бы возникнуть охотничьи кружки, что это ее спасло. Не было здесь ни одного двора или резиденции. Славный замок-дворец Ружаны стоял в совершенной руине на взгорье над местечком в 10 километрах от пущи, жили здесь разве что крысы и нетопыри. Во время какого-то из моих визитов мы подъехали, чтобы вблизи к нему присмотреться. В те годы стояли еще с обоих сторон въездной брамы две малых офицынки35 или кордегарды36 даже хорошо сохранившиеся, где мы взяли какого-то парня, который при этих руинах родился и знал их как свой карман. Речь шла не столько о проводнике, сколько о ком-то кто мог нас остеречь перед стеной, которая могла обвалившись проломить нам головы. Когда стояли на огромном дворе37 и смотрели на главный корпус, руина смотрелась действительно импозантно. Внешняя стена центрального здания, вернее самого дворца, может и не полностью, но еще сохранились. Из двух огромных офицын, та, что по левой стороне была уже давно целиком разобрана, а правая полностью сгорела, но ее стены еще как-то стояли. Все вместе связывала когда-то с дворцом стоящая по сторонам аркада, которая чуть напоминает, конечно в уменьшенном виде, площадь Святого Петра в Риме.
Сегодня я уже не очень помню деталей залов внутри дворца, но можно было легко сделать вывод, что в средине здания были когда-то три огромных зала, вероятно одинаковой величины один над другим. Первый был ниже уровня двора, следующий поднят немного выше уровня двора37, а третий — на первом этаже. Как мне кажется, что были это кухня, зал для приемов или столовая и салон, или гостиная. Мы пробрались как-то на первый этаж по стремянке или каких-то остатках лестницы и оттуда я отметил на высоте небольшую нишу, размещенную четко посреди стены, величиной около 50x40 см. Я думаю, что в этой ниши стоял многократно описываемый, славный кубок «Иван»39, которому король Владислав IV предоставил привилей, по которому можно было его королю подавать, чтобы из него пил, только «с большим парадом, при звуках бравурной музыки и выстрелах из пушки». Когда москали грабили и конфисковали Ружану и вторую резиденцию — Деречин40 после Ноябрьского Восстания, «Иван» пропал. Я допускаю, что находится он в запасниках Эрмитажа, потому как если не разбит он был тогда, то должен был быть перевезен в Москву вместе с множеством других ценных предметов, которые по личному приказанию царя были забраны в Петербург. Существуют списки этих предметов, среди которых фигурируют какие-то хрустальные кубки, но очевидно, что тот кто составлял эти списки, не имел понятия, что одним из них мог быть «Иван». Семейство Яцека проживало в единственном на всей территории доме лесничего (около 20.000 гектаров леса). Кроме этого единственными здания было только большое количество сторожек41 разбросанных по всей пуще. Все вместе — это была добротная совокупность лесов, чащи, порубок и болот, с несколькими лугами, но без анклавов. Молодняка было очень мало из-за разрушительного хозяйствования предыдущей администрации. Нужно было насильно учреждать множество крупных лесопитомников, к чему Яцек немедленно приступил и уже в 1938 году засаживал огромную область леса собственными саженцами. Я тогда приехал, чтобы увидеть как это происходит. Нанято было несколько сот баб, для которых поставил огромный лагерь, одолженный у войск, поставил тут же полевую кухню и всяческое лагерное оборудование. Все это вместе производило импозантное впечатление, поскольку организовано было безукоризненно с множеством егерей42 и двумя лесничими, присматривающими за всем. Во время посадок Яцек почти что там жил. Марыся очень красиво устроила и меблировала их дом лесничего, но был он однако достаточно мал. Дом стоял на единственном во всем имении распаханном двухсотгектаровом куске бедной земли и я не помню, было ли там что-то посажено или это был покос. Три раза, что было для меня непросто, удавалось приехать на весенние тока. Выезжали около четырех пополудни к заранее подготовленному шалашу43, то есть соломенному навесу с тремя стенками также из соломы. Перед закатом солнца выходили на так называемые запады44. Глухари, старые петухи, после целодневного жирования, западают на ночь на облюбованные места на ветвях, относительно высоко — каких-то 4-6 метров от земли. Будучи однако очень крупной птицей, приземление петуха сопровождается таким хлопанием и шумом, что очень легко, стоя в сотне или полуторастах метрах от него, разобраться, где птица села. Однажды, усевшийся на свою ветку, глухарь почти всегда сидит на ней до утра, поэтому будет некая подсказка когда пойдет на ток. Оставалось только дождаться темноты, чтобы осторожно и тихонько уйти. Из всех курообразных45, то есть тетеревиных46 птиц, глухарь — самый чуткий. Поскольку, все это развлечение происходило ранней весной, температура после заката солнца падала ниже нули и человек возвращался с радостью к шалашу, перед которым горел огромный очаг. Лежа на сене или соломе вытягивали к огню часто очень замерзшие ноги. Яичница, жареная на масле с колбасой, кусок черного ржаного хлеба, 2-3 водки и вечерний разговор со старшим братом. Я не помню, чтобы я был на токах в большем обществе чем вдвоем. Конечно долго мы не болтали в этой соломе или сене. Накрытые тяжелой буркой, глядя на прыгающий тень на соломенной крыше, мы засыпали почти сразу. К счастью всегда кто-то просыпался раньше, чтобы в полной еще темноте подбросить пару веток в огонь и приготовить кружку горячего сладкого чая с молоком. Шли затем каждый в свою сторону, к своему сидящему глухарю в совершеннейшей темноте. Если не было луны, нужно было привязаться поясом к егерю42, который знал свой участок и умел найти какой-то переход из одной чащобы в другую. Нужно было теперь подойти снова на каких-то полтораста шагов от места, в котором засела птица и в основном мерзнуть с бьющимся сердцем, стоять без движения порой очень долго, ожидая начало тока. Раз, пока так стояли, прошел около нас лось, а однажды около Яцека три оленя и группа вепрей. В конце концов птица просыпалась трепеща крыльями, наверное, чтобы отогнать сон, давая знать всем вокруг, где находится. Если все шло как положено, вскоре после этого, после нескольких хлопаний крыльями, начинался ток. В Ружане, с тем количеством птицы и зверья, прежде чем глухарь решался на ток, человек слышал уже целый хор, который играл и пел. Я не намереваюсь здесь описывать песню птицы. Но нужно пояснить, что во время так называемого шлифования, когда глухарь совсем глух, в течении 3-5 секунд можно перепрыгнуть на два или три шага. Подход порой шел довольно легко, потому как территория, хоть и достаточно густо заросшая, была твердой. Иногда топкая грязь с трудом позволяла сдвинуться с места.
Принципом Яцека было то, чтобы застрелить не более одной птицы ежегодно, но можно было охотиться или перепрыгивать хоть каждый день. За эти три весны, во время которых я охотился, я прыгал шесть или семь раз и доходил до глухаря раза четыре, но застрелил только одного, чтобы взять трофей домой. Было принято, что мы считали выстрелом касание куста под деревом, или самого дерева, на котором птица токовала. Зачем стрелять, когда выстрел был такой легок, что не давал никакого удовольствия, а кроме того, где повесить второй трофей? Всю жизнь мы охотились для радости подхода или самого процесса охоты, но стрелять, чтобы стрелять? Зачем убивать что-то, что тебе не нужно? Токующий глухарь уже достаточно стар, неважен на вкус и часто тверд как подошва, подходит лучше всего к собачьей миске. Голова моего глухаря, на фоне составленного веером хвоста, у меня была на стене моей комнаты, но зачем вешать второго? Чтобы друг-на-друга смотрели? У этой чудесной и сегодня уже весьма редкой птицы было большое будущее в Ружане, потому что все мы признавали одни и те же принципы охоты, а гостей мог Яцек легко держать в узде. Не все подходы были такие легки, в 1939 году один подход был более чем тяжел, потому что происходил в настоящем болоте, но такие подходы всегда самые интересные. Нужно было держать в руке двухметровый шест на подпорку, потому что болото, может и не будучи еще топью, было без сомнения по пояс. Подход к току делали возможным две так называемые кладки, то есть два грязных мокрых бревна, на половина погруженные, с которых кора давно сошла, а значить чрезвычайно скользкие. Идти по ним, в совершенной почти темноте, имея самое большее возможность сделать два или три шага каждые две минуты, было достаточно большим искусством. Делал человек эти два шага и ногу поднимал для третьего, а тут бестия глухарь именно прекращал токование (песнь глухаря). Случалось в такой момент стоять на одной ноге, не сметь вторую поставить, потому что что-то может забулькать, а известно, что птица именно в таких перерывах осторожна как рысь. Рассвет уже близок, кладка или даже земля медленно погружается, вода уже перешла колени. Это то самое мгновенье за которое, если бы мог физически его сегодня выдержать и если бы я имел на то деньги, я дорого заплатил бы. <...> По-моему, когда в 1937 году президент Речипосполитой объезжал восточные территории страны, Мама была в Спуше, а потому собралась сама на приветствие Мосцицкого48 в Желудо́к49. <...> Во время этой поездки Мосцицкий пожаловал в Ружану, где перед праздничной брамой его приветствовало местное население. После его отъезда Яцек спросил одного из местных жителей что думает об этом визите. — Пан Президент! Тьфу, какой он Президент если мне — музы́ке руку подал. Мне кажется, что это момент достоин «размышлений». <...> Я вернулся насовсем из Антверпена в июне 1938 года и провел весь следующий, может быть самый счастливый год жизни в Польше. Нам молодым, связанным еще со Спушей, облегчал значительно жизнь Линкольн. Добродушный старик Даймлер уже не очень был пригоден к последующим путешествиям, тем более, что это был открытый автомобиль, пусть и с брезентовой крышей, но уже дырявой. Линкольн зато был одним из самых дорогих тогда американских автомобилей. Быстрый, новый, не нуждался в непрерывных ремонтах и был лимузином, то есть когда падал дождь, не было неудобств, которые причинял Даймлер. А значить мы могли легко решаться принимать приглашения сделать визит к приятелям или родственнице и нам не нужно было для этого изучать расписание поездов. К ближним и дальним соседям мы не всегда ездили на новом автомобиле, потому что он не был в состоянии выдержать наших кресовых50 песчаных или полу-болотистых дорог. Кроме того на Полесье часто дорога была мощеной так называемым прусским мощением51, то есть деревянными сваями, положенными поперек дороги, уложенными во время первой войны немцами, а значить гнившими в земле уже больше двадцати лет. Даймлер брал ее [такую дорогу] с чрезвычайной легкостью.
<...> Когда я решил попрактиковаться в фирме работающей экспорт в Варшаве, разные тетя кивали головами и начали ходить сплетни, что один из молодых Сапег пошел налево. Но только до объявления, что получил трехмесячную практику в фирму Ехиль Нахари Медзижецкий52. Мои родители были обрадованы, прекрасно понимая, что будущее за теми, кто может сломать привычки XIX века, полностью одобрили мое решение и смеялись к слез, когда я рассказывал им о моей новой жизни. Эту работу нашел мне отец Тадзя Лота53 и, чтобы подбодрить, пригласил меня и еще несколько человек на ужин перед моей явкой на практику. На следующий день в восемь утра я появился перед дверью бюро и первой вещью, которую я отметил была маленькое отверстие в двери, в котором помещался свиток бумаги. Позже я узнал, что это так называемая мезуза54, строфа из Писания, которая должна находиться у входа в каждый дом, подобно тому, как у католиков крест на стене. Мой первый разговор с паном Медзижецким был очень забавен. До войны в Польше среди тех, кого сегодня называют, «бизнесменами» 90 процентов было евреями. Лично я никогда не встречал гоя55, то есть христианина, работающего в фирме у еврея. Получалось это не столько из-за обоюдного нежелания, сколько попросту потому, что евреи, у которых главным образом были контакты в стране и за рубежом с другими евреями, желали иметь в качестве «единоверцев». Языком коммерческом права всей Средней, и уж точно Восточной Европы было идиш. Поэтому появление в бюро гоя да к тому же Сапеги (все безусловно знали кто это), произвело своего рода сенсацию. Медзижецкий на протяжении всего времени моего пребывания в его фирме показывал мне позже письма от клиентов со всей страны с вопросом, как справляется княжич гой.
Во время нашей первой встречи с паном Медзижецким разговор звучал примерно так: — Понимает ли князь что делает? — Пан Медзижецкий, я пришел сюда как пан Сапега — практикант и я хочу научиться как можно лучше попросту потому, что я хочу ехать в Африку и хотел бы знать чем, как и где Польша там торгует. Фирма пана является одной с очень немногих, которые имеют контакты в так называемой Черной Африкой. Зампорт и Плутон являются фирмами, главным образом заинтересованными в импорте кофе и какао и не так активны в других областях. У пана как импортера и экспортера я могу научиться много большему, тем более, что фирма торгует с Мозамбиком, в который у меня уже сделана виза. Кроме того имеют пан контакты с Дальним Востоком, что дает мне возможность заглянуть в неизвестный мир. — Пан Сапега, я понял теперь о чем идет речь, но зачем это делать такому человеку как пан? Я был принят на трехмесячную практику, получил кабинку размером 3x3 м с дощатым сосновым столом-бюро и двумя стульями а также полкой, расположенной вокруг этой уборной на высоте поднятой руки. Через несколько дней я ушел в рутину работы и очень быстро я добыл в качестве образцов несколько предметов, которыми фирма торговала с Мозамбиком и обоими Родезиями. У меня на полке были: кастрюли разной величины, ведра, горшки, эмалированный ночной горшок и деревянное сиденье, которые изготовляются на лесопильне дяди Адама в Навоёвой56. Когда я сказал, что я знаю эту лесопилку, Медзижецкий сразу спросил: — А может пан знает графа? — Да, это мой дядя, я охотился там пар неделю назад. — И пан у меня работает! Я старался просить как можно больше знакомых с которыми я должен был видеться, чтобы приходили ко мне в «бюро», потому что я работаю и у меня нет времени на выходной день. Через пару дней закипело Варшаве общество. Писаны письма к моим родителям, что мир рушится, что пока еще есть время нужно спасать ситуацию, потому что это скандал, что Стах57 работает у евреев, которые его увешали ночными горшками и сиденьями. Людвик Веловейский58 из Зампорта59 и владелец Плутона поздравляли меня с отвагой (жена этого второго, из дома Семяшко60, была одной из самых красивой панн в Варшаве и когда я на нее смотрел, глаза мне застилал туманом). После этой всей негативной рекламы, я шел гордо как павлин. Я учился с энтузиазмом идиш для собственного удовлетворения и вскоре умел уже написать пару слов на этом языке (да и то древнееврейским алфавитом). Это было ужасно, на правильно в грамматическом и орфографическом отношениях, но было. Как-то нужно было написать к кому-то по делу гороха в Барановичи. Я попросил секретаршу, чтобы мне этот листочек написала, но кто-то из партнеров фирмы сказал, чтобы я сам написал письмо. Пан Сапега, пан знает, как мы, евреи, пишем по-польски, тоже с ошибками, но вы это читаете и понимаете. Пан думает, что Лившиц61 из Баранович глупее вас? Пишите пан как умеете и посмотрим что будет. Мое иудейско-еврейское письмо звучало примерно так: Пан Лившиц, Вифиль костет ФОБ Баннхофф Барановичи эйн центнер желтый горох, Вир воллен 10 Тонн. Е. Сапега.62 Эффект был поразительный. Письмо дошло в Барановичи через три дня, Лившиц сразу дал телефонный ответ, цена согласована и продавец известил о своем немедленном приезде в Варшаву. То была первая и единственная возможность в его жизни, что такое письмо ему написал гой, и к этому князь и он должен этого гоя собственными глазами увидеть. Сказал Медзижецкому, что письмо висит на стене в его бюро как память. Правду сказать, я здорово веселился, многому научился, особенно способу бытия в таком совсем другом обществе, еврейском, коммерческом, городском, которое к тому же говорит исключительно на идиш. Эта «польщизна» [можно перевести как диалект польского языка] безвозвратно сгинул в холокосте или рассыпался по сотням местностей куда сбегали беженцы. Работу я начал где-то в марте, а уже в июне я договорился с Зампортом, ища дальнейшую возможность практики. Фирму Е. Н. Медзижецкий52 я оставлял почти с печалью, провожали меня все желая успехов, давали мне адреса своих контактов в Африке, предлагая будущее сотрудничество. Был это наверное последний раз, когда я слышал эту польщизну, о которой я раннее говорили и которая у людей в моем возрасте может слезу выжать из глаз, это польщизна всех малых местечек нашей юности. В пятидесятые годы знакомые из Южной Африки говорили мне, что мой Медзижецкий там как-то обосновался. Благодаря своим контактам быстро выплыл наверх и колоссально полякам помогал, так же как его единоверцы старались нам помогать в Кении. <...>
* * * |
![]()
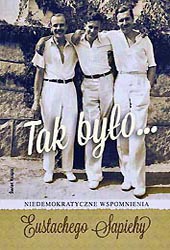
![Назад Назад <- 569. [стр. 302-306]](images/arrow_back_green.png)

![Далее Далее -> 629. [стр. 388-392]](images/arrow_next_green.png)
